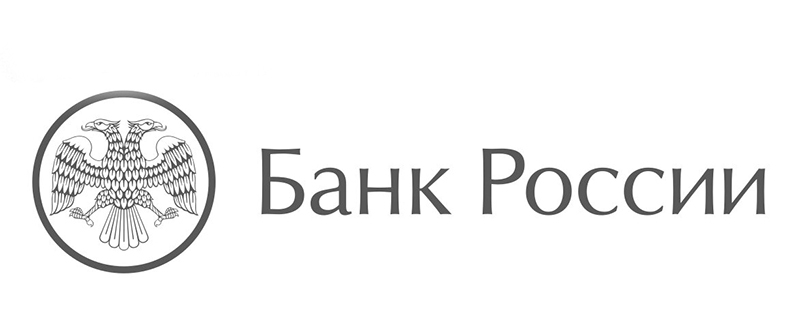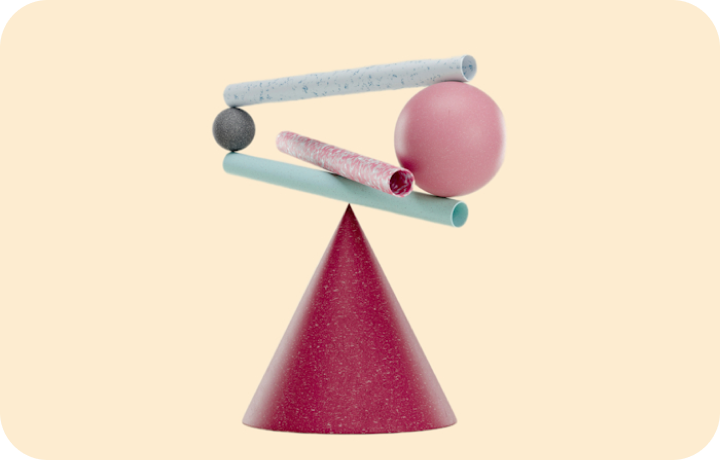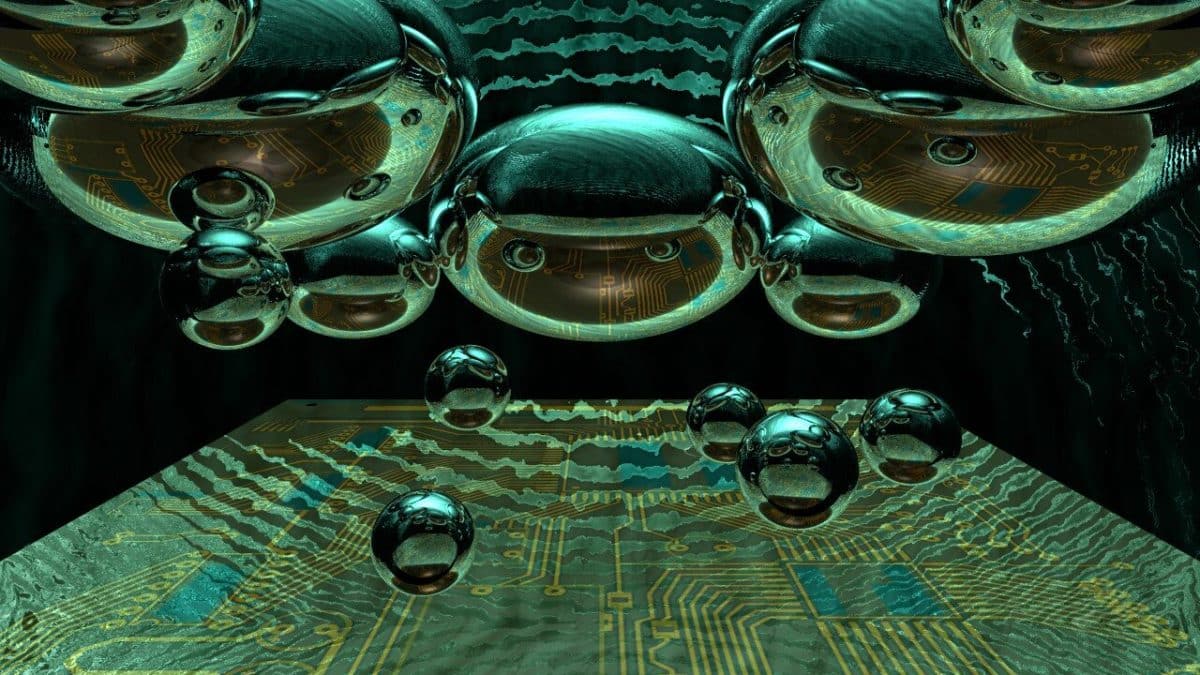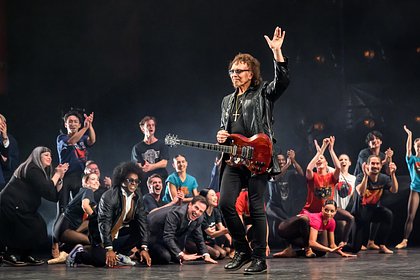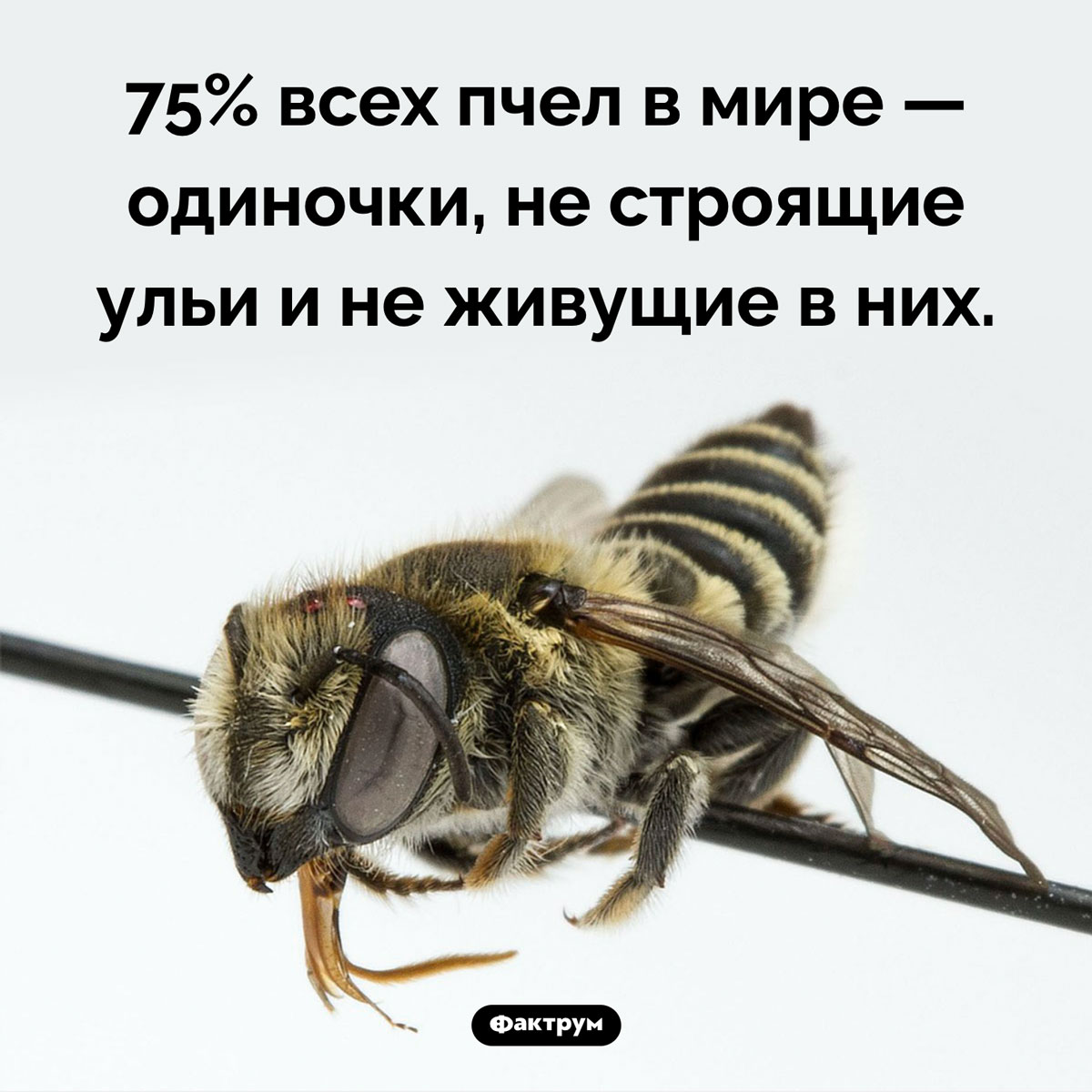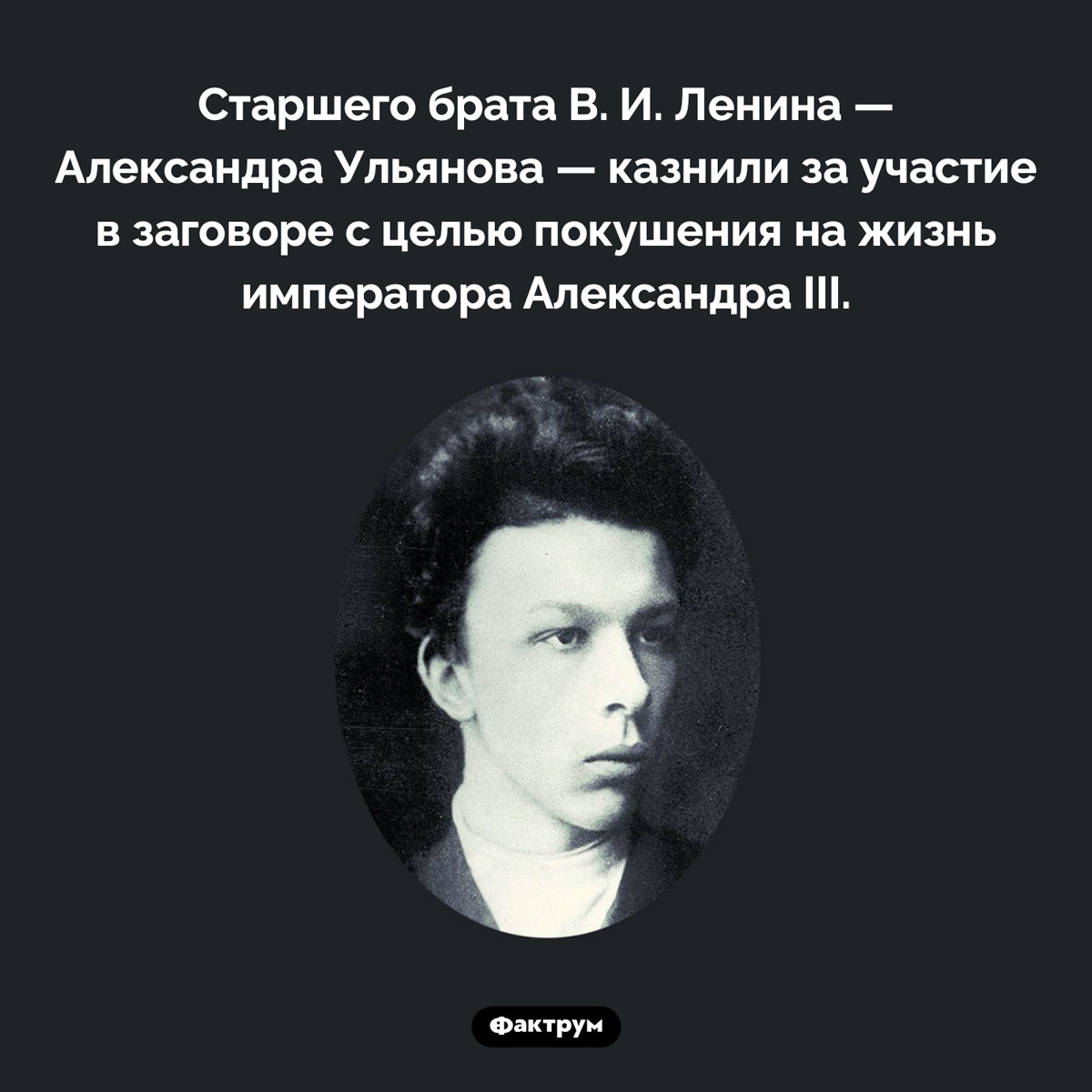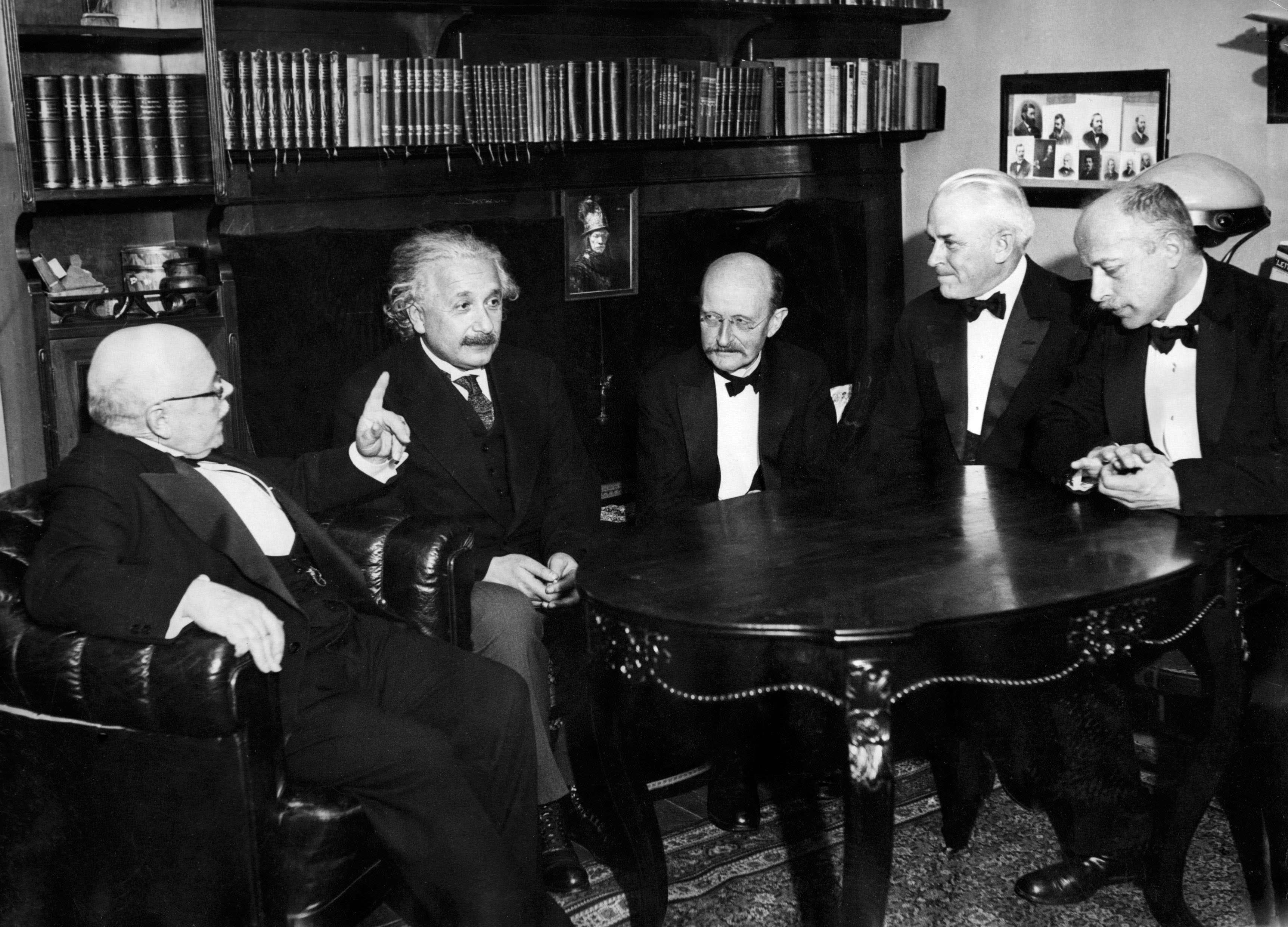Предприниматели Страны Советов
В СССР их называли цеховиками. Деятельность этих людей была опутана слухами и легендами — одна другой таинственнее. На самом деле всё просто: цеховики организовывали подпольное производство дефицитных товаров, тем самым хоть немного закрывая дыры, образованные царившим в СССР тотальным дефицитом всего: от продуктов питания до одежды, от запчастей к машинам до ниток. Подпольные бизнесмены при советской власти были всегда. Но настоящий расцвет их деятельности пришёлся на шестидесятые — семидесятые годы 20-го века. С одной стороны, смерть Иосифа Сталина смягчила характер карательного правосудия. С другой — среди советских граждан резко вырос спрос на откровенно «буржуазные» предметы быта: пластинки с музыкой Элвиса Пресли, цветастые галстуки и модные джинсы с западными «лейблами». В 1962 году арестовали Шаю Шакермана и его сообщника Бориса Ройфмана. Шакерман служил в психоневрологическом диспансере. В нём он организовал подпольные цеха по производству дефицитной одежды. Работали пациенты. Обоих подпольных бизнесменов приговорили к расстрелу за хищения в особо крупном размере (от 10 тысяч рублей). Поражал размах бизнеса: при обыске нашли ценностей на три с половиной миллиона рублей. Для сравнения: самый дорогой советский автомобиль «Волга» в 1961 году стоил 5100 рублей. Средняя зарплата составляла 81 рубль в месяц. Главный парадокс подпольного бизнеса состоял в том, что при полном запрете частной собственности в стране цеховики были вынуждены так или иначе сотрудничать с государством: без связей в государственных структурах было невозможно ни сбывать продукцию, ни её производить. Например, товар продавали через государственные торговые сети (других всё равно не было), где у цеховиков были личные связи. Или некая фабрика завышала потребность в сырье: часть его шла на «дополнительное» производство. Нередко простые трудящиеся госпредприятий не знали о том, что работают на цеховиков. Очередь в Ленинграде, 1977 г. (Wikimedia Commons) В 1960-е годы королевой чёрного рынка была мужская нейлоновая рубашка. Михаил Шер, главный инженер Киевской галантерейной фабрики, организовал производство этих модных и дефицитных вещей на Дарницком шёлковом комбинате. Схема была проста: часть продукции комбината списывали как бракованную. Из «бракованной» ткани шили рубашки и реализовывали их через розничную сеть. Шера также расстреляли. Полковник Павел Павлюк, который в то время возглавлял киевский отдел МВД УССР по борьбе с хищениями социалистической собственности, годы спустя говорил, что Шер в наше время стал бы миллионером: Михаил-де был умным и предприимчивым человеком. Часто уголовники, разбогатевшие на грабежах, переходили на, так сказать, более высокий и цивилизованный уровень. Так, например, знаменитая королева преступного мира Калина Никифорова, не брезговавшая никакими правонарушениями, на закате своей деятельности, уже в 1980-е, развернула подпольное производство дефицитной обуви. Никифорова, кстати, была практически единственной женщиной, которую считали воровкой в законе. Советская пропаганда изо всех сил обвиняла в тотальном дефиците именно цеховиков. Мол, именно жуликоватые руководители «зажимают» востребованный товар, чтобы спекулировать им из-под полы. Но собственно производители редко становились «героями» разоблачений. В СССР власть не хотела признавать, что могучие государственные комбинаты и фабрики вчистую проигрывают мелким кустарным мастерским. Зато работников торговли десятилетиями охотно обвиняли во всех бедах. В 1984 году за хищения в особо крупных размерах расстреляли Юрия Соколова — директора московского гастронома «Елисеевский». Сотрудники ОБХСС (отделов по борьбе с хищениями социалистической собственности) к началу 1980-х годов были завалены работой. Но, в то же время, коррупция делала своё дело: то и дело борцам с подпольным бизнесом поступали звонки «сверху» с указаниями не трогать того или иного «расхитителя народного добра». Слишком много высокопоставленных руководителей советских предприятий и чиновников оказывались вовлечены в подпольный бизнес. В 1986 году, уже при Горбачёве, приняли закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Фактически он разрешил занятия бизнесом. Появились первые кооперативы, которые на вполне законных основаниях шили, к примеру, дефицитные «варёные» джинсы. Но и ОБХСС продолжал функционировать. По инерции от сотрудников этого ведомства требовали новых раскрытых дел. В итоге аббревиатуру ОБХСС сотрудники структуры стали расшифровывать как «о боже, хоть сам садись». С наступлением капитализма в России цеховики самоликвидировались: их бизнес стал вполне легальным.

В СССР их называли цеховиками. Деятельность этих людей была опутана слухами и легендами — одна другой таинственнее. На самом деле всё просто: цеховики организовывали подпольное производство дефицитных товаров, тем самым хоть немного закрывая дыры, образованные царившим в СССР тотальным дефицитом всего: от продуктов питания до одежды, от запчастей к машинам до ниток.
Подпольные бизнесмены при советской власти были всегда. Но настоящий расцвет их деятельности пришёлся на шестидесятые — семидесятые годы 20-го века. С одной стороны, смерть Иосифа Сталина смягчила характер карательного правосудия. С другой — среди советских граждан резко вырос спрос на откровенно «буржуазные» предметы быта: пластинки с музыкой Элвиса Пресли, цветастые галстуки и модные джинсы с западными «лейблами».
В 1962 году арестовали Шаю Шакермана и его сообщника Бориса Ройфмана. Шакерман служил в психоневрологическом диспансере. В нём он организовал подпольные цеха по производству дефицитной одежды. Работали пациенты. Обоих подпольных бизнесменов приговорили к расстрелу за хищения в особо крупном размере (от 10 тысяч рублей). Поражал размах бизнеса: при обыске нашли ценностей на три с половиной миллиона рублей. Для сравнения: самый дорогой советский автомобиль «Волга» в 1961 году стоил 5100 рублей. Средняя зарплата составляла 81 рубль в месяц.
Главный парадокс подпольного бизнеса состоял в том, что при полном запрете частной собственности в стране цеховики были вынуждены так или иначе сотрудничать с государством: без связей в государственных структурах было невозможно ни сбывать продукцию, ни её производить. Например, товар продавали через государственные торговые сети (других всё равно не было), где у цеховиков были личные связи. Или некая фабрика завышала потребность в сырье: часть его шла на «дополнительное» производство. Нередко простые трудящиеся госпредприятий не знали о том, что работают на цеховиков.

В 1960-е годы королевой чёрного рынка была мужская нейлоновая рубашка. Михаил Шер, главный инженер Киевской галантерейной фабрики, организовал производство этих модных и дефицитных вещей на Дарницком шёлковом комбинате. Схема была проста: часть продукции комбината списывали как бракованную. Из «бракованной» ткани шили рубашки и реализовывали их через розничную сеть. Шера также расстреляли. Полковник Павел Павлюк, который в то время возглавлял киевский отдел МВД УССР по борьбе с хищениями социалистической собственности, годы спустя говорил, что Шер в наше время стал бы миллионером: Михаил-де был умным и предприимчивым человеком.
Часто уголовники, разбогатевшие на грабежах, переходили на, так сказать, более высокий и цивилизованный уровень. Так, например, знаменитая королева преступного мира Калина Никифорова, не брезговавшая никакими правонарушениями, на закате своей деятельности, уже в 1980-е, развернула подпольное производство дефицитной обуви. Никифорова, кстати, была практически единственной женщиной, которую считали воровкой в законе.
Советская пропаганда изо всех сил обвиняла в тотальном дефиците именно цеховиков. Мол, именно жуликоватые руководители «зажимают» востребованный товар, чтобы спекулировать им из-под полы. Но собственно производители редко становились «героями» разоблачений. В СССР власть не хотела признавать, что могучие государственные комбинаты и фабрики вчистую проигрывают мелким кустарным мастерским. Зато работников торговли десятилетиями охотно обвиняли во всех бедах. В 1984 году за хищения в особо крупных размерах расстреляли Юрия Соколова — директора московского гастронома «Елисеевский».
Сотрудники ОБХСС (отделов по борьбе с хищениями социалистической собственности) к началу 1980-х годов были завалены работой. Но, в то же время, коррупция делала своё дело: то и дело борцам с подпольным бизнесом поступали звонки «сверху» с указаниями не трогать того или иного «расхитителя народного добра». Слишком много высокопоставленных руководителей советских предприятий и чиновников оказывались вовлечены в подпольный бизнес.
В 1986 году, уже при Горбачёве, приняли закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Фактически он разрешил занятия бизнесом. Появились первые кооперативы, которые на вполне законных основаниях шили, к примеру, дефицитные «варёные» джинсы. Но и ОБХСС продолжал функционировать. По инерции от сотрудников этого ведомства требовали новых раскрытых дел. В итоге аббревиатуру ОБХСС сотрудники структуры стали расшифровывать как «о боже, хоть сам садись».
С наступлением капитализма в России цеховики самоликвидировались: их бизнес стал вполне легальным.






.jpg?#)