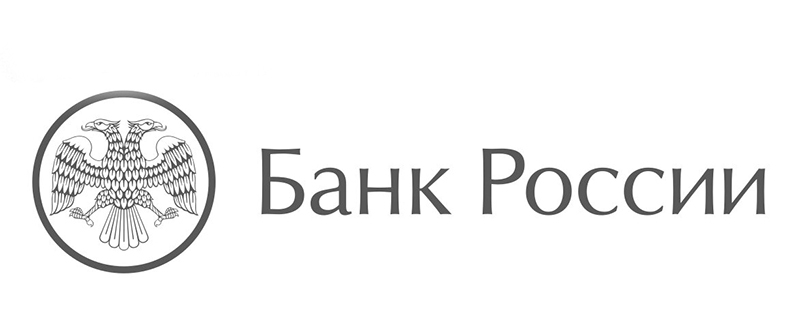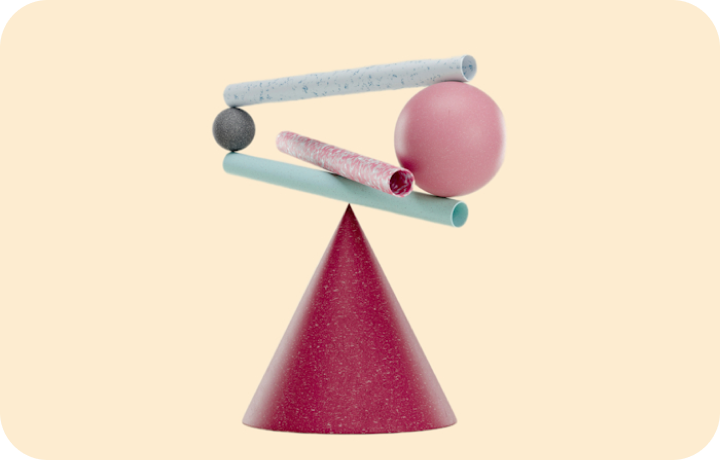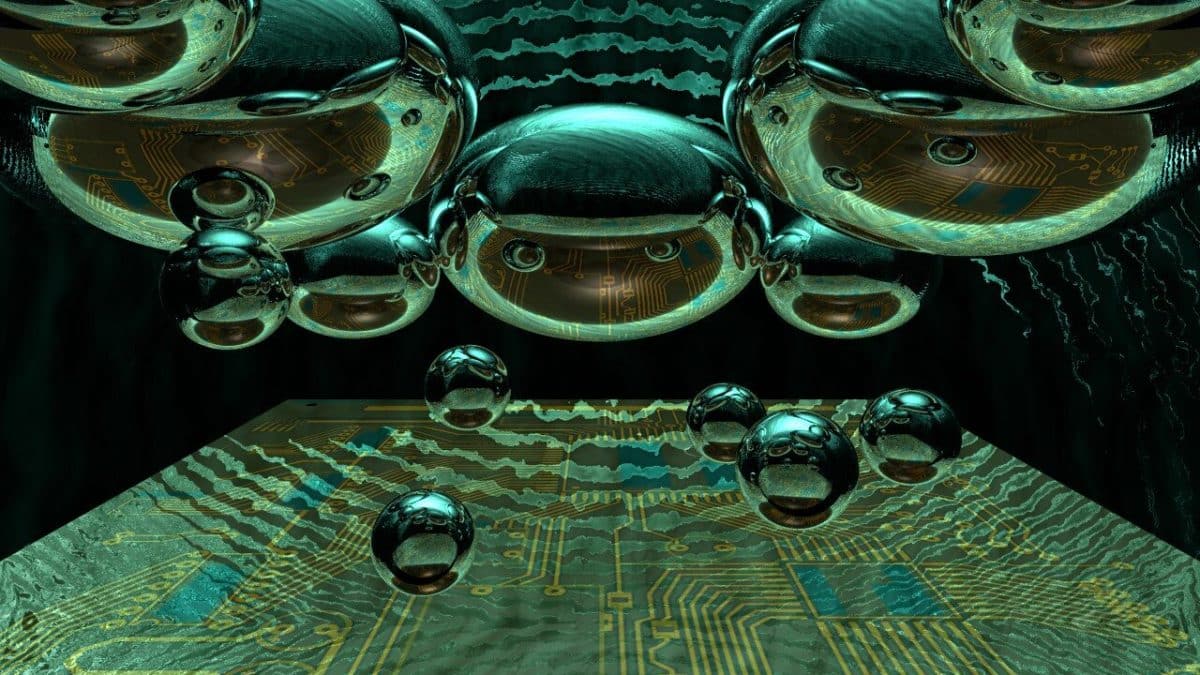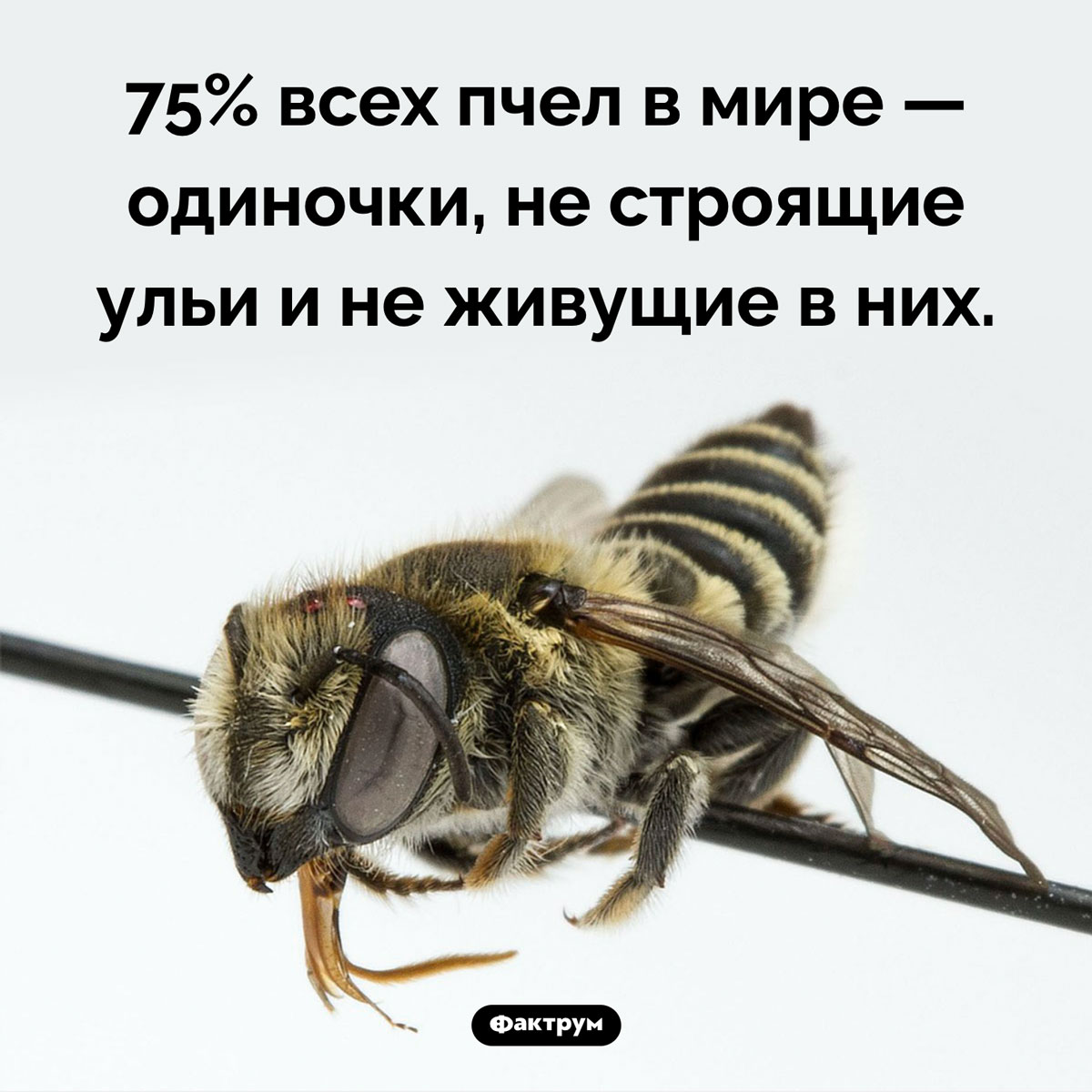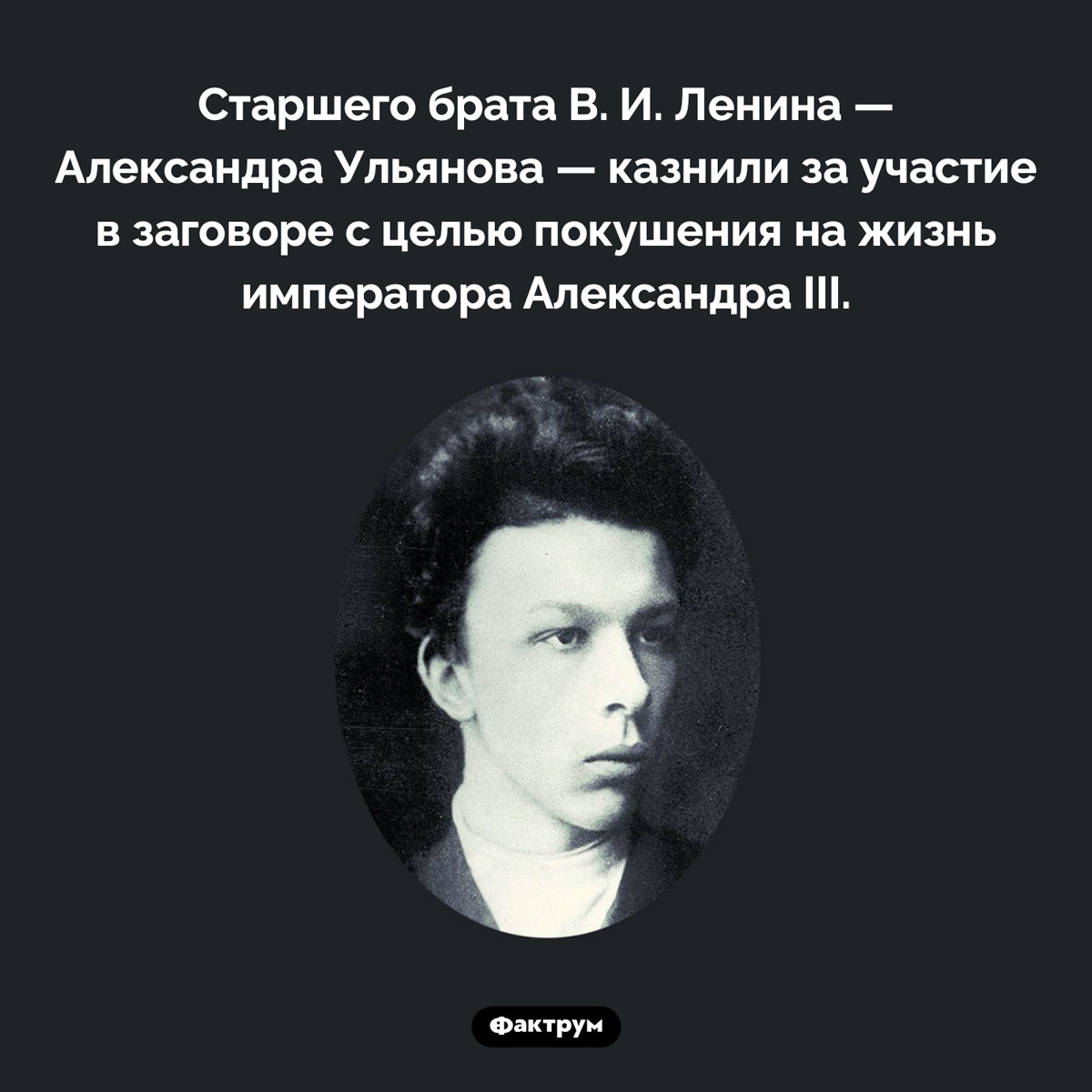Как пандемия COVID-19 отразилась на международных отношениях
Пять лет – срок по историческим меркам ничтожный, да и в масштабе человеческой жизни отрезок небольшой. Тем не менее январь 2020-го уже кажется чем-то бесконечно далёким. Не только по той причине, что прошедшее время переполнено событиями, а ещё и потому, что оно сжалось. Дело и в качестве. Именно этот период имеет шанс войти в учебники […]

Пять лет – срок по историческим меркам ничтожный, да и в масштабе человеческой жизни отрезок небольшой. Тем не менее январь 2020-го уже кажется чем-то бесконечно далёким. Не только по той причине, что прошедшее время переполнено событиями, а ещё и потому, что оно сжалось. Дело и в качестве. Именно этот период имеет шанс войти в учебники как момент перелома – окончания одного социально-политического состояния мира и перехода в другое.
Последние мирные дни
Юбилейный (пятидесятый) форум в Давосе проходил с 21 по 24 января 2020 г. будто бы в двух измерениях – демонстрационном и теневом.
Звездой фасадной части была Грета Тунберг, шведская экоактивистка, находившаяся в зените славы. Антигероем – президент США Дональд Трамп, назвавший единомышленников Греты «пророками апокалипсиса» и изложивший главному собранию мировых глобалистов принципы своей протекционистской по духу концепции «Америка прежде всего». Тунберг рукоплескали, Трампа слушали настороженно и в основном без приязни. Европейские участники форума не скрывали надежды: через десять месяцев на выборах американцы положат конец этой политической аберрации, проголосовав за демократа.
Обстановка в кулуарах и на сессиях разной степени закрытости была несколько иной. Маститые представители политики, бизнеса и культуры озадаченно обменивались впечатлениями: мир движется куда-то не туда, а управление глобальными процессами всё очевиднее ускользает из рук. За этим следовали рассуждения о том, что ситуация не безнадёжна, но, чтобы её выправить, придётся очень постараться, поэтому надо напрячь фантазию и придумать, как взять под контроль процессы, доказать, что они обратимы.
Тем временем фоном шли сообщения из КНР, где подозрительно быстро распространялась какая-то непонятная инфекция. Интерес эти новости представляли лишь с одной точки зрения – не повлияет ли вирус на экономическое состояние Китая, от которого зависит большинство мировых рынков…
Теперь мы знаем, что это был последний «мирный» Давос. Следующие два прошли под знаком эпидемиологического аврала, а дальше повестку диктовали расширяющиеся вооружённые конфликты – сначала в Восточной Европе, потом ещё и на Ближнем Востоке.
ВКЛ – ВЫКЛ
Спустя пять лет мы живём в другом мире. Грету Тунберг воспринимают в основном как карикатурную левацкую скандалистку, для которой бузотёрство важнее содержания протеста. А Дональд Трамп из назойливого наваждения превратился чуть ли не в олицетворение антилиберальной Немезиды, пришедшей покарать глобалистов.
«Пандемия новой коронавирусной инфекции» – это словосочетание через пару недель после юбилейного Давоса узнала вся планета – оказалась мощнейшим катализатором процессов, о которых в кулуарах тужили участники форума. Когда в начале марта вспыхнула общемировая паника и страны одна за другой принялись захлопывать двери перед распространением заразы, произошло то, что ещё недавно считалось невозможным.


Либеральный мировой порядок, сформировавшийся после холодной войны и достигший апогея к началу XXI века, базировался на идее глобализации как процесса не только общемирового, но и объективно-исторического. То есть обусловленного самой логикой социально-экономического прогресса, а не усилиями государств-инициаторов либо всё более транснациональных корпораций. Отсюда и восприятие общемировой открытости как естественного и необратимого состояния. Нравится или нет, оно ведёт ли к издержкам и изнаночным проявлениям. Такова окружающая среда, в которой придётся существовать. И с этим, в общем, все смирились. Практическое исчезновение смутьянов-антиглобалистов, наводивших страх на тот же Давос и прочие аналогичные мероприятия на рубеже веков, подтвердило, что идея сопротивления глобализации потерпела крах. Остающиеся недовольные уже не отрицали самой глобализации, но выступали за смягчение её негативных сторон в духе альтерглобализма.
И вот примерно за десять дней марта 2020 г. глобализацию в общемировом масштабе просто выключили. Все четыре свободы перемещения, лежащие в основе глобальной экономики, – людей, товаров, услуг и денег, пострадали (правда, в разной степени, по убывающей: от почти полного ступора пассажирских перевозок до незначительных сбоев в денежных перечислениях). Не затронута оказалась лишь пятая, добавившаяся позже других свобода – перемещения информации. Но она только усугубляла проблему, поскольку весь мир узнавал о масштабе катаклизма в режиме реального времени и впадал в ещё большее оцепенение.
«А что, так можно было?»
Лирики конспирологического толка называют пандемию генеральной репетицией дальнейших событий. Этот романтический взгляд на ход истории подразумевает, что она управляется чьими-то волей и разумом. Ощущения от того самого последнего предкризисного Давоса подобную версию не подтверждают – чувствовалась скорее растерянность «мировой закулисы» перед лицом чего-то назревшего. Тем не менее связь пандемии с военно-политическими и социальными обострениями 2020-х гг. несомненна.
Общества пережили стресс. Он обострил восприятие, добавил неадекватности и агрессивности в реакции. Государства, со своей стороны, обрели законную возможность опробовать новые методы управления и контроля, в том числе с опорой на новейшие технологии. Их внедрение вызвало бы куда большее сопротивление, не имей власти возможности ссылаться на то, что всё это ради защиты жизней и здоровья граждан.
В некоторых случаях «туман пандемии» позволил незаметно подготовить резкие стратегические шаги – в голову прежде всего приходит вторая карабахская война и победа Азербайджана, отчасти – обострение между Индией и Китаем в районе плато Ладакх.
Шок от происходящего обрёл через некоторое время дополнительное измерение, не сразу осознанное, но важное. Мир, перестав быть таким, каким все привыкли его видеть за пару десятилетий, не рухнул. В результате стал ребром вопрос из некогда популярного мема: «А что, так можно было?». Да, можно.
Конечно, пандемия очень больно ударила не только по здоровью людей, демографии, но и по экономикам всех стран, транспортным и логистическим цепочкам, привычному образу жизни и так далее. Но ни одно государство не распалось из-за ковида, не прервалась никакая жизненно важная коммуникация, а выход из положения, правда, иногда крайне драматической ценой, находили практически все страны – вплоть до самых бедных.


А коли так, то – вперёд, к схватке за расстановку сил на новом этапе.
Дело рук утопающих
Одним из политических последствий пандемии стало поражение Дональда Трампа на выборах-2020. Общественно-политическая неразбериха и административные промахи в борьбе с распространением заразы смазали экономические успехи администрации, которая в первые два месяца того года была уверена, что сумеет сохранить власть в своих руках. Ну и открылись ворота к новым методам управления процессами волеизъявления (массовое голосование по почте). Как сложились бы события 2021–2022 гг., будь тогда в Белом доме Трамп, можно только гадать. Но его громкое возвращение через четыре года лишь подчеркнуло необратимость перемен. Теперь уже аберрацией смотрится реванш либерально-глобалистских групп во главе с Байденом, а не успех трампистов-националистов в 2016-м.
Пандемия дискредитировала систему международных институтов – и самих организаций, и заявляемых ими норм.


Ну и расширил путь к фактической легитимации эгоизма как базы международных отношений. Защита национальных интересов, под которыми всё чаще понимается национальная безопасность, стала главным принципом. А от этого один шаг до реального «соперничества великих держав», которое трамповская Стратегия национальной безопасности назвала сутью международных отношений ещё в 2018 году.
Есть, однако, и другой аспект. «Великие державы» в пандемию не стали, мягко говоря, образцами эффективности и внутренней силы. Оказалось, что страны с меньшим потенциалом, но более разумно выстроенным управлением и гибким подходом могут справляться лучше. Это стимулировало процесс рассредоточения мирового влияния, начавшийся раньше, но теперь превратившийся в доминанту. Отсюда и сомнения – правомерно ли называть складывающуюся ситуацию «многополярным миром»? На арене действуют не полюса с мощным притяжением, а изрядное количество значимых игроков разного калибра, вступающих друг с другом в достаточно произвольное взаимодействие. Его эффект каждый раз определяется ситуативно.
Несомненное следствие – даже не регионализация, о которой говорят давно, а рост значения соседства. Пандемия показала – чем короче цепочка, связывающая страны и экономики, тем меньше риск её обрыва. Сейчас, в условиях военно-политической напряжённости, проявляется и другое – политическая роль государств-соседей друг для друга становится более важной, чем позиция сильных, но отдалённых держав. Это можно наблюдать в разных частях мира – на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, теперь и в Северной Америке. И это, без сомнения, повлияет на общее распределение влияния.
Без порядка и правил
С точки зрения воздействия на мир украинский кризис со всеми сопутствующими изменениями стал в некотором смысле осознанным повторением того, что в пандемию случилось спонтанно. Если в 2020 г. разрыв привычных связей происходил по причине страха перед инфекцией, то в 2022-м он стал результатом политических решений. Как и во время ковида, резкий обрыв устоявшегося взаимодействия не привёл к коллапсу, хотя и вызвал тяжёлые последствия для экономик.
И тут проявилась, пожалуй, главная черта современного мира. Либеральная глобализация (здесь её уместно назвать распространившимся в 2010-е пропагандистским термином «порядок, основанный на правилах») закончилась, но фрагментации единого международного пространства не произошло. Экономика (прежде всего) сопротивляется политически мотивированным усилиям её расчленить. Попытки вырезать Россию из мировой ткани ведут к тому, что последняя деформируется, растягивается, изворачивается, приобретает многоцветье оттенков серого и чёрного, но не рвётся. И это касается любых попыток чисто политическими и силовыми способами перекроить единую мировую систему – будь то экономика, коммуникации или гуманитарные связи. Мир остаётся целостным и связанным, хотя теперь и без пресловутых «правил».
Хорошая это новость или плохая – с ходу и не скажешь. Рост взаимной неприязни и конфликтности в условиях, когда невозможно разойтись, – так себе предпосылка. В идеале она может вести к необходимости договариваться – не раз и навсегда, а в каждом конкретном случае. Но более привычно попытаться возродить имперскую политику и всё-таки разорвать целостность ради установления сфер влияния.


Расстановка сил в мире не подразумевает одного нормативного эмитента, кто бы им ни был – Соединённые Штаты, Китай либо кто-то ещё.
В разгар пандемии общим местом (вплоть до дурного тона) стало поминать Всадников Апокалипсиса из Откровения Иоанна Богослова – Чума, мол, уже есть, ждём Войну и далее по списку. Пугать себя иногда полезно, но в целом занятие это бессмысленное. Пандемия сдула лакировку с мировой конструкции, обнажив её внутренний износ. А когда он стал явным, стремление обезопаситься на случай обрушения стимулировало вероятность этого самого обрушения. Как бы то ни было, объективно ситуация не так страшна, как может показаться. Но восприятие её как чего-то жуткого имеет значение. Первая пятилетка новой международной перестройки показала, что назад дороги нет. Впрочем, то, что впереди, пока тоже смахивает на целину.
Автор: Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Профиль



.jpg?#)